«Старшеклассники говорят: “Мы теперь не пойдем в медвуз”». Что изменит закон об отработках 29 октября, 2025. Мария Божович Если отчислился — плати штраф

Фото: freepik.com Минздрав подготовил поправки к законопроекту о трехлетнем наставничестве. Госдума рассмотрит их сегодня, 29 октября. Если их примут, то отработки под руководством наставника будут обязательны не для всех медицинских направлений, а также не будут распространяться на фармацевтические специальности.
«Стране нужны врачи»
Госдума 8 октября рассмотрела в первом чтении так называемый «закон о наставничестве», который с 1 марта 2026 года коснется всех будущих врачей и фармацевтов в стране. Официально он называется законопроектом № 1006061-8 о внесении изменений в статьи 69 и 79 федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Ранее опубликованный для общественного обсуждения, он получил 1095 поправок, из которых было учтено лишь 27.
Далее развернулась настоящая битва:
Законопроект «о закрепощении врачей», как его уже назвали эксперты, можно свести к трем главным тезисам:
Поправки, предложенные депутатами, предлагают ряд послаблений, среди которых:
Сегодня, 29 октября, состоится второе чтение.
Скорее всего, ряд поправок будет учтен, но базовый принцип, на котором построен законопроект, вероятнее всего, не изменится: если человек решил стать врачом, он не имеет права ни передумать в процессе обучения, ни отказаться от последующего распределения.
Обязательный и фактически безотзывный контракт с государством объясняется нехваткой медицинских кадров. Конкурс в медвузы РФ составляет в среднем 15 человек на место, однако, по словам замминистра Минздрава Татьяны Семеновой, ежегодно «мы теряем 35% выпускников медвузов и 40% выпускников медколледжей». Эти люди отказываются работать в государственной системе здравоохранения, поэтому трехкратная компенсация за расторжение целевого контракта — вынужденная мера. Стране нужны врачи.
«Куда-нибудь в сторону Сибири»
Илья Киселев учится в 10-м классе школы №38 города Владимира. Он хочет поступить в медвуз, но еще не решил, где — либо в Санкт-Петербурге, либо в другом городе-миллионнике. Илья считает медицину самой перспективной отраслью, потому что «от нее зависит будущее человечества», а значит, в ней можно будет и людям помогать, и получать за это хорошие деньги. Однако новый закон, по его словам, для него «просто ужасен», поскольку после 6 лет основного обучения придется отрабатывать 3 года терапевтом, а не идти в ординатуру.
— Государство должно повышать зарплаты, привлекать студентов к себе в госучреждения, а не загонять туда насильно. Если все мирно и без сопротивления сойдутся на мнении, что обязательная отработка — это хорошо, то власть никогда не будет делать что-либо для привлечения кадров. К тому же новые терапевты будут работать не по собственному желанию, а потому что их заставили. Это понизит качество медицины в стране.
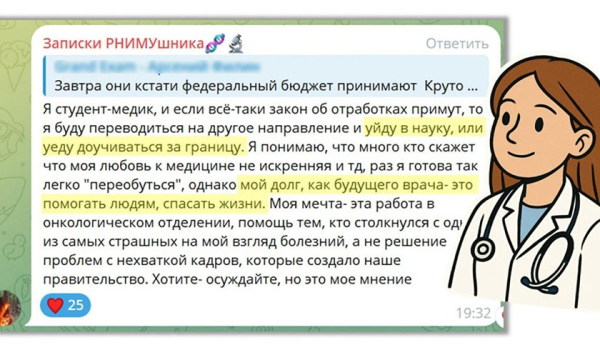
17-летний Никита Хрущев, студент медицинского колледжа в Питере, в дальнейшем собирается в институт. По окончании вуза ему будет 28 лет и, возможно, у него уже будет семья.
— С этими отработками мне придется ехать куда-нибудь в сторону Сибири, потому что кто же меня оставит в Питере, — печально говорит он. — И что мне, бросать семью? Эта неуверенность неизбежно скажется на трудоспособности врачей. Кадров не хватает во многих отраслях, давайте тогда вводить отработки для всех. Что касается наставничества — у врачей и так дел много, а тут еще за вчерашними студентами следить.
Студентка 1-го курса педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова, попросившая не называть ее имени, учится на платной основе, потому что для бюджета не хватило баллов. Целевого направления у нее нет, но это, скорее всего, не освободит ее от обязательной отработки после вуза. Она еще в школе заинтересовалась клеточной физиологией, ее мечта — изучать химиотерапевтическое воздействие на клетку. Студентка пока не определилась, идти ли ей в ординатуру и становиться практикующим врачом, или в аспирантуру, чтобы заниматься экспериментальной медициной и попутно подрабатывать медсестрой в онкобольнице. Так или иначе, обязательная отработка идет поперек всех ее планов.
— Мне нравится профессия онколога, я хочу связать свою жизнь с помощью людям, которые столкнулись с таким диагнозом. Но, насколько я понимаю, мне как выпускнице педиатрического факультета придется отработать сначала три года в детской поликлинике, а потом уже идти в свою более узкую специальность. Наверное, многие скажут, что это тоже позволит приобрести полезные навыки. Но у нас в вузе и так хорошая практика, отличные клинические базы, студенты на младших курсах активно изучают теорию, а на старших приобретают опыт. Если мне не удастся избежать трехлетнего наставничества, то я попробую уехать либо в Чехию, либо в Австралию. В этих странах медобразование на хорошем уровне, а иностранным студентам предоставляется материальная поддержка и помощь в освоении языка.
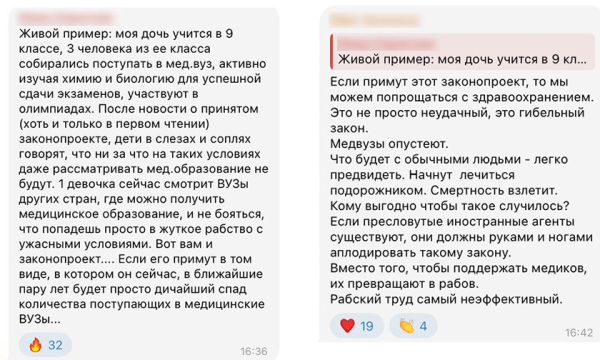
— Три человека из класса дочери собирались поступать в медвуз, изучали химию и биологию, участвовали в олимпиадах, — пишет мама девятиклассницы Мира Карасова. — После принятия законопроекта в первом чтении дети в слезах говорят, что даже рассматривать медобразование не будут. Если закон примут в таком виде, то можно не сомневаться, что в ближайшие пару лет будет дичайший спад поступающих в медицинские вузы.
«Дверца захлопнулась — готовьте деньги на штрафы»
Консультанты в сфере образования теперь советуют три раза подумать, прежде чем идти в мединститут. Профориентолог Николай Дремов считает, что штрафы — рискованное решение.
— Скорее всего, теперь большинство отказов от медицины будет происходить на этапе до поступления. В складывающихся условиях ученик как будто должен до конца 11-го класса четко понимать, готов ли он быть медиком или нет. При этом не существует реальных инструментов, которые помогут ему взвешенно принять такое важное решение. Профориентационные тесты и даже профильные классы — недостаточные меры. Нужны реальные профпробы (практические занятия, которые моделируют элементы реальной профессиональной деятельности), но силами школ их невозможно организовать. И если раньше человек, получивший медицинское образование, мог найти себя в смежных областях, то теперь такая возможность для него закрыта. Поэтому отказ от медицины в принципе с целью исключения рисков — абсолютно рациональный и понятный выбор.
Георгий Конев из сообщества «Шаг», занимающегося экспертной поддержкой поступающих в вузы, дает ряд рекомендаций:
- Стоимость платного обучения в медицинских университетах сильно повысилась и почти такая же, как у однокомнатной квартиры в регионе. Даже трехпроцентный образовательный кредит не особо облегчит ситуацию. Оценить, тянете ли вы платку, достаточно просто. Вы сможете за пять лет накопить половину от этой суммы? Если нет, то платный путь не для вас.
- Бюджета теперь нет, есть только целевое обучение. У него, как и у образовательного кредита, есть риск: отчисление. Поэтому надо продумать финансовую подушку. У вас должна быть на руках примерно половина штрафа, чтобы быстро откупиться, а остальное уже закрывать, как получится. Таким образом, при походе на целевое примерно половину от стоимости платного обучения вы должны откладывать на всякий случай.
- Если финансовой подушки нет и не будет, смотрите в сторону колледжей. Если отчислитесь, то штраф тоже относительно небольшой, потому что амортизация в колледже в разы меньше, чем в университете. Образовательный кредит на колледж тоже вполне реально закрыть.
- Если вы готовитесь к ЕГЭ по химии и биологии, но перспективы становятся туманными, то не смотрите на медицинский вуз. Экология природопользования, фарм- и пищевое производство, технологии материалов — для всех этих направлений вам понадобятся те же дисциплины, что и для медвуза.
«Личинка врача»
— Предложенный закон — это разрушение постдипломного образования, узаконивание того, что человек без должной квалификации может работать и учиться на рабочем месте, — считает гастроэнтеролог Алексей Парамонов. — Только сверхмотивированные, настроенные на карьеру люди пойдут после этого в ординатуру. Большинство останутся трудиться там, где начали, используя уже приобретенные навыки и не развиваясь. Такой врач будет уметь только то, что делают в его конкретном отделении, и еще повезет, если это будет что-то полезное.
Общемировой тренд — развивать образование в сторону специализации, поэтому ординатура (резидентура) во всем мире становится дольше и по каким-то сложным, узким специальностям может превышать 6 лет. Такое движение до определенного момента существовало и в России, но потом выбор сделали в пользу того, что Парамонов язвительно называет «медицинской анимацией»:
— Это такое развлечение для населения, чтобы оно в любой момент с любым насморком имело доступ к врачу. Отсюда вечный дефицит кадров в поликлиниках, которые занимаются не лечением, а распределением бесплатных лекарств, больничных и прочих медицинских социальных благ.
Алексей Парамонов говорит, что люди, которые придут на отработку, будут еще не врачами, а «личинками врача». Эту проблему как раз и хотят решить с помощью наставника, но в городской поликлинике он научит своего подопечного в лучшем случае правильно заполнять талон. В больнице, если повезет, выпускнику может встретиться профессиональный врач и бескорыстный педагог от природы, но это скорее исключение. А правило, увы, состоит в другом:
— Если вы — сын или дочь регионального начальника, то вас трудоустроят в лучшую областную больницу и обучать вас будут лучшие кадры. А выпускник без связей попадет на фельдшерско-акушерский пункт, где ему в наставники формально назначат главврача из ближайшей больницы в 30 километрах.
— Мой отец так отрабатывал в Кривом Озере, один за всех — и за врача, и за ветеринара, даже у коров роды принимал. Но это было в советское время, тогда и медицина была немножко другая, и все-таки проходилась какая-никакая интернатура, а не сразу со студенческой скамьи, без навыков, без понимания, — говорит невролог Павел Бранд. — Лечить насморк, кашель, выписывать нурофен и капли может любой выпускник института. А вот распознать системную красную волчанку уже будет сложнее. Но частые болезни встречаются часто, а редкие — редко, поэтому насморка будет больше, и 99% врачей худо-бедно будут справляться. Только что это говорит о качестве медицины?
— Фокус в том, — продолжает Бранд, — что, с точки зрения формальной логики, наставничество — хорошая идея. В других странах постдипломное образование врача составляет минимум 3–5 лет, а в России на данный момент — два года ординатуры, и лишь для некоторых специальностей (например, для пластической хирургии) — пять. Человек, только-только окончивший медвуз, еще ничего не умеет. Должен быть наставник, который введет его в курс дела и объяснит, как работает система. Шести лет обучения для этого мало. Полноценные 3 года отработки плюс 2 года ординатуры давали бы в итоге нормального доктора. Только где взять мотивированного и грамотного наставника?
«Добровольно-принудительные развлечения»
Николай Дремов, в течение года сотрудничавший с медицинским университетом СЕНЕЖ в области проектных изменений для обеспечения кадрового состава медучреждений, настроен бодро. Он тоже считает, что, когда человек приходит с нуля в новую систему, кто-то должен ему помочь, поэтому развитие института наставничества — правильный способ борьбы с текучкой кадров.
— Определенные ресурсы для оплаты наставников есть у руководителей медицинских учреждений, — говорит Дремов. — Одно из предложений — вывести сотрудников пенсионного возраста со сниженной эффективностью работы на консультативные должности. На селе же предлагалось создавать кластеры, где один наставник ведет несколько стажеров, преимущественно удаленно, если это возможно, плюс приезжает для передачи опыта в отведенные для этого дни.
— Наставников никто не обучает, и даже не планирует, — скептически отмечает Павел Бранд. — Это просто какие-то доктора, которым в нагрузку дадут только что выпустившихся студентов. Чему их научат? И чего эти наставники сами-то умеют? А вдруг они косячат ежедневно и будут этим косякам учить молодых врачей?
Бранд считает, что есть только один путь мотивировать выпускников и их потенциальных супервизоров: платить реальные деньги.
— Человек заключил целевой договор, у него есть рабочее место в больнице города Усть-Каменогорска с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц. Квартиру ему никто не снимает, поэтому он должен либо все отдавать за жилье и питаться святым духом, либо искать деньги на выплату штрафа и уходить. Если бы, условно, в Москве у молодого врача была зарплата 150 тысяч, а, например, в Усть-Каменогорске 250 тысяч, при том, что стоимость жизни в Усть-Каменогорске дешевле; если бы при этом у него был местный наставник, который за наставничество к своим 350 тысячам, которые он имеет как опытный, сформировавшийся доктор, получал еще 100 тысяч за наставничество; если бы его квалификацию оценивали с учетом того, как он обучил своих подопечных — то это было бы суперэффективно и все бы сразу поехали в регионы. А то в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани врачей избыток, а чуть отъедешь от центра — и пустота. Надо, чтобы врач в Москве получал 1 оклад, в Орле 1,2 оклада, на расстоянии 500 км от Москвы 1,5 — и так далее. Чем крупнее город, тем меньше зарплата. Платите денежку врачам! Но вместо этого придумывают всякие добровольно-принудительные развлечения.
Поскольку вы здесь… У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей. Сейчас ваша помощь нужна как никогда. ПОМОЧЬ





