«Все пробники мой ученик писал на 90+, а на экзамене получил всего 72». От чего зависит результат ЕГЭ 19 апреля, 2025. Вероника Словохотова Эксперт ЕГЭ Оксана Шаповалова — о подготовке к экзаменам и разговорах с учениками

Эксперт ЕГЭ Оксана Шаповалова преподает русский язык и литературу в гимназии имени Е.М. Примакова, одной из самых сильных и престижных в стране. Ученики Оксаны Владимировны сдают экзамены на высокие баллы и занимают призовые места на олимпиадах. Но для нее важнее всего не результаты, а сами дети. Как совместить подготовку к поступлению в топовые вузы с заботой о каждом ребенке — читайте в интервью «Правмиру».
ЕГЭ и прописи
— Многим кажется, что поступление в сильную школу гарантирует высокие баллы на экзаменах и победы на олимпиадах. Так ли это?
— Конечно, нет, даже если это лучшая школа мира. Без твоей внутренней мотивации, старания, стремления каждый день узнавать новое ничего не получится. Да, изначально тебе открыто больше благоприятных путей. Но пройдешь ли ты дорогой к успеху — зависит только от тебя.
Дети дороги тем, что они есть. Безотносительно того, сколько у них баллов на ЕГЭ. Безусловно, и в моей практике, и в практике моих коллег есть стобалльники, есть те, кого принято называть высокобалльниками. Например, среди моих учеников был юноша, который имел высокие амбиции, большие дарования и прекрасные человеческие качества. При этом почерк его был совершенно нечитаемым.
Тестовую часть выполнял безошибочно, а вот с сочинением были проблемы. В начале года он спросил: «Что я могу сделать, чтобы получить высокие баллы за сочинение?» Ответ пришел сразу: научиться с уважением относиться к тексту и к собеседнику. Мы решили писать сочинения два раза в неделю на протяжении всего года. И не просто писать, а писать в тетрадях-прописях для начальной школы.
Оксана Владимировна Шаповалова — учитель русского языка и литературы, руководитель кафедры словесности Гимназии имени Е.М. Примакова, эксперт ЕГЭ по литературе.
Помимо учебы в школе, этот юноша занимался иностранными языками, плаванием на профессиональном уровне, ездил на курсы для поступления в МГУ, помогал своим родителям с младшими братьями и сестрами. И он нашел возможность писать. Дома. В электричке. В школе на переменах и после уроков. В тех самых тетрадях. Не стесняясь этого и не переживая, что кто-то может посмеяться. И в итоге за сочинение он получил максимальные баллы. Это всего лишь один из примеров.
— Оказывается, на ЕГЭ нужен хороший почерк…
— В том числе. Каждая буква имеет значение, каждая фраза — вес. Почерк напрямую связан с орфографическим обликом букв, и эксперт не должен угадывать при проверке, что вообще написано. Если слово нечитаемое, это орфографическая ошибка, и не одна. Ну и, естественно, в работе с детьми мы сконцентрированы не только на почерке.
Работа с сочинением — это во многом про формат. Системно отрабатываем его. Стараемся при этом не забывать о главном — о той работе с текстом, которая духовно обогащает и развивает личность.
Что касается тестовой части, то есть слово, которое мне не нравится, но которое в точности передает то, чем необходимо заниматься, если хочешь высокие результаты. Это дриллинг (от англ. drill — тренировать, повторять) — метод тренировки, когда ты многократно повторяешь одно и то же упражнение, чтобы довести его до полного автоматизма. Этот подход широко используют в разных областях, включая спорт, музыку и даже боевые искусства.
Важно не просто понимать материал, а его практиковать. В меньшей степени это касается ЕГЭ по литературе. Но там тоже нужно постоянно писать развернутые ответы и сочинения.
И еще одна сложность, на мой взгляд, определяется тем, что все усилия выпускника, педагога, в каких-то случаях родителей, репетиторов, преподавателей профильных курсов, сводятся к тем трем с половиной часам, когда ребенок должен показать результат. Но как ты чувствуешь себя в это время? Ты можешь проснуться с головной болью, уйти в личные переживания, быть не на пике формы, как говорят спортсмены…
— Можешь пойти на экзамен с температурой 38,7.
— Да, и даже если у тебя нормальная температура и ничего внешне как будто не препятствует, твое волнение может повлиять так, что ты не вспомнишь самые простые вещи.
Есть страны, где ребенку дают две попытки, из них засчитывается лучший результат.
И так снимается вопрос, во-первых, внутреннего напряжения, во-вторых, того, что в этот один день ты должен показать все, к чему шел несколько лет.
— У вас были ребята, которые рассчитывали на высокий балл, а потом что-то пошло не так?
— Да, конечно. Самый яркий пример — молодой человек, который все пробные работы писал на 98–100 баллов. И не было сомнения, что он получит выше 90. В ста баллах никто и никогда не может быть уверен заранее, потому как много факторов на это влияет — насколько справишься с волнением, какой достанется вариант, кто будет проверять работу. В итоге на экзамене мой ученик получил 72 балла.
На том этапе, особенно в момент, когда другие ребята присылали в общий чат свои более высокие результаты, он воспринял это как катастрофу. Конечно, эти баллы никак не умаляют его знаний и достоинств, но я была расстроена вместе с ним и тем, что результат не соответствовал знаниям и усилиям, и тем, что это могло повлиять на поступление. К счастью, все в итоге сложилось хорошо. Сегодня это уже дипломированный специалист в области ядерной физики. И при встречах мы обсуждаем вечные философские вопросы и впечатления от прочитанных книг. Не баллы на ЕГЭ.
«Зачем это учить?»
— Если говорить о содержании экзамена, что для школьников обычно труднее всего?
— Исключения. В русской орфографии выделяется три основных принципа. Морфологический — его суть в единообразном написании морфем. Эти правила возможно выучить и понять на уровне системы. И это примерно 80% слов. Остальные 20% делят между собой еще два принципа. Фонетический принцип дети любят особенно — как слышится, так и пишется. И принцип русской орфографии, который называется традиционным — написание слов сохраняется независимо от их современного звучания, что связано с историческими изменениями в языке. И вот это нужно знать наизусть.

Еще одно непростое задание связано с анализом содержания текста. Нужно выбрать верные или неверные утверждения. И здесь требуется не только внимательно читать текст, глубоко понимать его структуру и содержание, но и понимать логику авторов-разработчиков. Насколько правильно включать подобные задания, с учетом того, что в восприятии текста мы не должны мыслить шаблонно, и уж тем более в условиях, когда тестовая часть не апеллируется, — большой вопрос. Конечно, потерянные баллы за это задание не приведут к обнулению результата. Но максимум уже не получить.
— Когда лучше начинать готовиться, чтобы у тебя выстроилась система?
— В идеальной картине мира — в 5-м классе, выйдя из начальной школы с желанием учиться, с базовыми знаниями, начать изучать правила системно, знакомясь с историей языка и понимая законы его развития. Тогда в старшей школе мы можем идти в обобщение, вместе переводить накопленные знания в четкие алгоритмы, которые позволят ученику не только справиться с экзаменом, но и после школы писать и говорить грамотно. С любовью к родному языку.
Если так не произошло, тогда все, что хотелось бы изучить поэтапно, нужно сжать во времени. И тем не менее сохранить системный подход. Понимать законы языка во всех отношениях важнее, чем запоминать механически.
Еще один важный момент. Мы должны учитывать реалии сегодняшнего дня. Дети все реже задают вопрос «Почему?» и все чаще — вопрос «Зачем?». Если ты на этот вопрос не отвечаешь сам для себя, если не помогаешь детям найти ответ, результата не будет.
— Что вы отвечаете?
— Вместе с детьми каждый раз ищу ответ. Для чего знать, какая это часть речи? Чтобы понимать ее грамматические особенности, связь с другими словами. Зачем делать морфемный разбор? Чтобы, зная строение слова, применять правила написания каждой морфемы и не допускать орфографических ошибок. Следующий вопрос будет: «А зачем мне вообще все это учить, если по итогу все забудется? Можно жить и без этого».
Действительно, свыше 11 тысяч уроков за 11 лет жизни в школе. Что останется? Глубина, подвижность и оригинальность ума, культура мышления образованного человека.
Нужно помочь ученикам увидеть это. Но есть и практический, вполне понятный детям аспект: успешная сдача переводных экзаменов (в нашей гимназии они обязательны); высокие результаты итоговой аттестации, поступление в вуз мечты.
— Какие волшебные пособия вы им рекомендуете?
— Волшебных пособий не существует. Есть отличные рабочие материалы. Например, сборники упражнений Романа Дощинского, если говорим о тестовой части экзамена по русскому языку. Чудесный сайт педагога Елены Захарьиной, где ученик выполняет задания по разным темам в формате ВПР/ОГЭ/ЕГЭ и сразу может проверить свои ответы, провести работу над ошибками. Есть федеральные ресурсы — «Сдам ГИА».
Важно выстроить индивидуальный путь. Сегодня проблема не столько в том, чтобы найти материалы, сколько в том, чтобы из множества выбрать те, которые соответствуют твоему уровню, твоим способам восприятия и твоей первостепенной задаче.
И, конечно, учитываем психологическую составляющую. В моей практике был случай, когда ученица могла написать литературу на высший балл, а могла вообще ничего не написать в прямом смысле этого слова — из невозможности преодолеть внутреннюю преграду. И этот лист мог остаться пустым. К счастью, на экзамене все получилось, но вероятность тотального неуспеха была весьма высока. Никакое пособие от этого защитить не может.

— Опасная ситуация…
— Очень. И здесь важно поддержать, продумать разные планы и алгоритмы. Ты проходишь с ребенком этот путь — не осуждая, не высмеивая, понимая и принимая. Садишься и начинаешь писать вместе с ним. И даже если потом ничего не получится, этот ребенок на пороге взрослой жизни будет знать, что его неуспех тоже примут. И сохранится его здоровье, его жизнь и вера в человека, что в конечном счете самое главное. А потом уже будем разбираться, как быть дальше.
— То есть разделяем: не ты плохой, Вася, Петя, Саша, у тебя просто в этот раз не получилось.
— Безусловно. Но не исключаем при этом работу над тем, почему не получилось. И вообще не приравниваем цифры на экзамене, отметки в журнале к личности ребенка в целом. Не строим отношения на основе страха. Эта ошибка приводит к тяжелым последствиям…
Никогда страх не приведет к развитию. Там, где страх, нет свободы, нет развития, нет радости, там вообще ничего нет.
Ровно поэтому я опираюсь на открытия гуманной педагогики, рыцарем которой является Шалва Александрович Амонашвили. Великий педагог, он показывает собственным примером силу уважения и любви, что лежат в основе отношений учитель-ученик. Любовь в высшем смысле. Любовь как знание, принятие, уважение и забота.
«Вы же были справедливы»
— Вы получаете 5-й класс, для них все новое, непонятное. Как познакомиться, сблизиться, чтобы они почувствовали себя свободнее, начали доверять?
— Знаете, они и в 5-м приходят в волнении, и в 8-м. Нет универсальных пособий, которые помогут выстроить доверительные отношения. Но если ты уважаешь человека, если у тебя есть искренний интерес к ребенку, без деления на «сильных» и «слабых», если ты в каждом видишь маленького ученого, художника, будущего поэта или просто отличного мальчишку, смелого и искреннего, и ты в этом честен, то никаких проблем с доверием не будет.
И еще справедливость — она важна в общении с детьми любого возраста. Когда же они входят в период подростковый, это вообще, пожалуй, единственное, на что можно уверенно опираться.
В начале моей работы в школе, в классе, где я делала первые настоящие шаги как учитель и классный руководитель, у меня училась яркая, талантливая, самобытная девочка. При всех своих достоинствах она регулярно опаздывала — и в школу в целом, и на уроки в частности. Несмотря на все мои попытки — от убеждающих слов до строго-холодного тона, — ситуация не менялась. На протяжении нескольких лет. Только обида тихо, но верно росла с каждым днем. Я была убеждена, что первой, кто забудет меня по окончании школы, будет эта девочка.

И знаете, прошло уже больше девяти лет. Она действительно стала первой. Первой, кто поздравляет меня с днем рождения, с Новым годом и с Днем учителя. Ранним утром приходит первое сообщение, от нее! Я уже не раз спрашивала: «Как же это возможно, что ты не забываешь? И почему обида в тебе не победила все остальное?» — «А обиды никакой нет, вы же были справедливы». Когда я это услышала, многое стало понятно.
Еще один пример. Кстати, тоже связан с опозданиями. Если ты заходишь в кабинет после звонка, нужен пропуск — прочитанное наизусть стихотворение.
— Любое?
— Любое, которое тебе нравится. Прочесть нужно хорошо. Мы с ребятами становимся внимательными слушателями. Если не можешь прочесть, ничего страшного, но тебе придется к следующему уроку выучить стихотворение — теперь уже то, которое дам я.
Чтобы правило работало, оно должно быть справедливым, поэтому распространяется не только на детей, но и на меня. Буквально два дня назад у нас проходил Чемпионат по чтению, и я была в жюри. В финале был назначен дополнительный тур. В итоге я опоздала на несколько минут на урок, переходя из одного корпуса в другой.
Захожу, с тревогой смотрю на своих восьмиклассников — они изумлены: «Что-то случилось?» Я рассказываю и не отхожу от двери, потому что собираюсь читать «Молитву» Лермонтова наизусть. Они говорят: «Нет-нет, вы проходите, у вас же уважительная причина». — «Ну и что? А правило работает для всех одинаково — я зашла после звонка…» Читаю. И в классе в этот момент и тишина благодатная, и принятие, и, хочется надеяться, вера своему учителю.
Это пример, где хорошо видно, что и строгость, и правила, если они справедливы, будут восприняты с пониманием. Пусть не сейчас — после. Правила упрощают жизнь ребенка, если они выстроены не ради твоего самоутверждения или того, чтобы тебе было удобнее, а ради того, чтобы вместе прийти к результату.

— В чем особенности работы в 5–8-м классах? С какими проблемами вы сталкиваетесь?
— В пятом-шестом классе с детьми нужно играть. Конечно, не вместо учебы, но превращать тяжелое, скучное в игру, во что-то, что может удивить. И на этом удивлении дети легко постигают новое.
Мне в жизни очень повезло. Однажды Шалва Александрович Амонашвили проводил трехдневный семинар для учителей на базе нашей школы. Сначала он давал уроки четвероклассникам. И 40 минут урока превращались в какое-то таинство: все дети становились маленькими учеными. Вместе они не только изучали правила, но и совершали открытия — одно из которых расшифровка послания Кирилла и Мефодия, скрытого в славянской азбуке: «Аз буки веди, глагол: добро есть».
Вот он им дает задачу, распределяет, кто какую часть должен решить, задает общие вопросы. И дети не кричат хором: он заранее просит поднять руку, чтобы другие могли тоже подумать — у всех разная скорость, нельзя лишить ребенка, который медленнее думает, возможности озарения и радости открытия. Но в то же время есть тот, кто первый все понял. Шалва Александрович подходит к нему, садится на колено и просит на ухо сказать ответ. И в зависимости от ответа направляет мысли дальше или жмет ему руку и радуется вместе с ребенком.
Спустя три дня места детей за партами заняли мы — учителя.
Не могу передать, какое счастье я испытала, когда ко мне подошел Шалва Александрович, выслушал ответ на один из вопросов и сказал: «Ну какая умница!» Мне ничего больше не нужно было, понимаете?
С того момента рукопожатие, открытый взгляд и улыбка как высшее восхищение перед ответом ребенка для меня неотъемлемы.
Интересный случай был в этом году с пятиклассниками. Мы писали сочинение — по тем же темам, что и ученики Царскосельского лицея. После того, как все получили отметки и письменный комментарий, я прочла вслух несколько самых глубоких, интересных, самобытных работ. Сначала не называя имен их авторов. Ребята попробовали догадаться, кто мог это написать. После я назвала имена. Поблагодарила. Пожала руки.
И вот одна из учениц, получивших 5/5 за сочинение, расстроилась до слез. Я еще на уроке увидела это. На перемене подхожу, спрашиваю, что случилось. Мои сомнения подтверждаются: «Что я могу сделать, чтобы это было не только 5/5, но чтобы и моя работа звучала?» Мы вместе подумали, как ее опыт, ее интересы и чувства можно было бы отразить в сочинении, чтобы оно стало уникальным, чтобы в нем был узнаваем авторский почерк. Теперь с надеждой и волнением жду следующего сочинения.
— Ребенок уже стремится не просто получить пятерку, он хочет быть особенным.
— Да, он хочет особенного пути, признания своей уникальности, и это прекрасно, потому что дарование у каждого свое. При таком подходе даже мысли не возникает о том, чтобы списать работу из интернета или поручить ее искусственному интеллекту.
Сочинение, если оно не регламентировано жесткими единообразными критериями, — прекрасный способ развить подвижность и оригинальность ума. Но есть и другие приемы. Ведущий из них — медленный филологический анализ текста. Плюс дополнительные творческие задания, которые при этом в одних классах могут стать ярким воспоминанием на всю жизнь, а в других — никак не откликнуться. И надо искать, искать, искать.
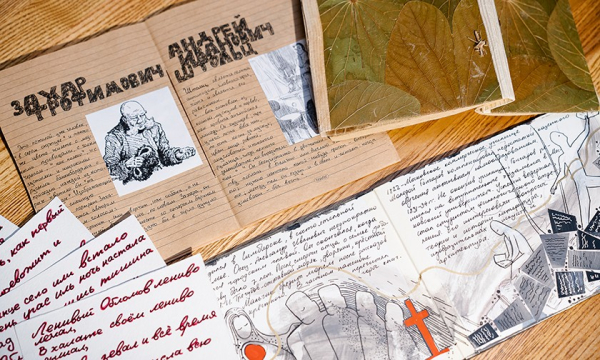


Допустим, с предыдущим выпуском, изучая литературу XIX века, мы делали маски, отражая в этой работе психологическую характеристику персонажей. Еще дети создавали коробку героя и наполняли ее так или иначе связанными с ним вещами. Мы потом в классе пытались понять, что это за герой, обосновывали эпизодами из текста. Получалась серьезная работа, переходящая в сочинение о художественной детали.
В полной уверенности, что эти форматы работают всегда и со всеми, я пришла в нынешний восьмой класс. Да только ничего не работает! А почему? Не откликается. Классические варианты заданий мы, естественно, выполняем, но любимых форматов я пока не нашла. Только на предыдущем уроке у меня мелькнула мысль. Мы разбирали образ Пугачева, оставалось мало времени. Я предложила игровое деление на адвокатов и прокуроров и сказала, что прокурорам нужно назвать отрицательные качества Пугачева, с опорой на текст романа, а адвокатам — положительные, чтобы защитить его. И вы не представляете, какой это вызвало отклик, как они включились! Мне стало очевидно, что надо попробовать сейчас разработать для них формат диспута.
«Как писать?»
— Как вы понимаете, что ребенка из класса можно подтолкнуть к олимпиаде?
— Прежде всего, интерес, который проявляет ребенок, и вопросы, которые он задает. Через вопросы вообще здорово человек проявляется — видна его суть, становится понятным, что для него важно, чем он живет, каким видит этот мир.
Ты объясняешь тему, один ребенок задает вопрос, который требует просто повторить то, что уже написано на доске. Другой задает вопрос, который связан с пропущенным звеном в общей логической цепочке. А есть ребенок, который задает вопрос, уходящий в корень проблемы — настолько глубоко он видит или чувствует само явление. И кстати, чаще всего в русском языке это те ребята, которые успешны в математике. А вот рука об руку с литературой часто идут такие предметы, как химия и биология. И это всегда интересно наблюдать.
— Какая дальше стратегия для этого ученика?
— Все зависит от школы, от задачи, от семьи, от самого ученика. Если развитие для себя, это одна история. Если Всероссийская олимпиада школьников — другая, это особый путь подготовки. Если перечневая олимпиада — третья.
В любом случае при всех направляющих нужно составить образовательный маршрут. Но не за ребенка, а вместе с ним.
И сначала понять ответ на вопрос «Зачем?». Если ребенку просто интересно, мы составим маршрут, где будет много чтения, в том числе критической и философской литературы. Если важен образовательный результат — выстроим индивидуальную траекторию.
— Смотрят ли ваши ученики в сторону Всероссийской олимпиады?
— Одно из подразделений нашей гимназии — образовательный центр «Взлет», где тренеры и специалисты самого высокого уровня серьезно готовят ребят всей Московской области и, конечно, наших учеников. Как говорит директор нашей школы, Всероссийская олимпиада — «спорт высоких достижений», чемпионство там приносит только командная работа.
— Если мы говорим об олимпиаде по литературе, на каких заданиях вы тренируете школьников? Какие навыки нужно развивать?
— Здесь два весомых блока, если не говорить об общей эрудиции, а уже идти непосредственно в формат. Это аналитическое задание, где дается серьезный анализ прозаического или поэтического текста. И творческое задание, где нужно применить на практике свой культурный опыт, накопленный на уровне впечатлений от чтения, посещения театров, выставок; основанный на знании того, как устроен мир сцены, актерского мастерства, какие есть законы в живописи, в архитектуре, в графике.
Мы опираемся на задания прошлых лет, которые доступны на официальном сайте олимпиады, и учимся вместе писать. Дмитрий Сергеевич Лихачев лучше, чем кто-либо, говорит об этом в «Письмах о добром и прекрасном». У него есть отдельное письмо, которое так и называется «Как писать?», и там он отвечает вопросом на вопрос. Как научиться ездить на велосипеде? Нужно садиться и ездить на велосипеде. Как научиться писать? Нужно садиться и писать. И другого пути нет.

Параллельно важно изучать обязательные художественные произведения, читать современную литературу, расширять культурный кругозор. Сегодня мы с вами и Лувр можем посетить онлайн. А далее писать, писать и писать! Не забывая о критериях, разумеется. Такая большая внутренняя работа над самим собой и над всем тем материалом, который необходимо прожить как литературный и личный опыт.
Есть самородки с недюжинными способностями, прекрасной памятью, они изначально талантливо пишут, но часто вне формата. И тогда задача развить то, что уже дано свыше, помочь увидеть, что еще нужно сделать, чтобы алмаз их таланта стал бриллиантом.
— Нужна ли таким детям сборная?
— Вот им сборная, может быть, нужна в меньшей степени, но нужен педагог. У нас был такой ученик — удивительный молодой человек. Свой путь, в ковид, он прошел вместе с педагогом нашей гимназии — полтора года они писали, изучали и даже вместе издали в итоге книгу о том, как готовиться к Всероссийской олимпиаде по литературе.
— Все-таки талант играет роль.
— Конечно. Но не только он. А еще и здоровый оптимизм, неравнодушие к жизни, трудолюбие и непрестанная работа над собой и словом. Как у Маяковского: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Просто будут разные стратегии подготовки.
Не сделать больно
— Вы в начале учительского пути и вы сейчас — что изменилось?
— Есть, конечно, то, что неизменно, некий внутренний нравственный остов. Но в части самопознания, а следовательно, познания и принятия других и мира в целом это вообще две разные версии меня. В первые годы работы было очень много долженствований не в лучшем смысле этого слова — как по отношению к себе, без права на ошибку, так и по отношению к другим. И это то, что мне хотелось бы изменить в тех первых семи годах своей педагогической жизни.

— У вас были педагогические провалы?
— Вы знаете, я родилась под счастливой учительской звездой. Серьезных провалов на уровне результатов или больших педагогических ошибок, которые бы серьезно ранили ребенка, у меня не было. А вот историй с точечными ошибками, с неудачами во время урока или в какой-то конкретной ситуации множество. Они были, есть и будут. В том числе нелепые и смешные.
Мой самый первый урок был в родном городе, в Ставрополе, на педагогической практике. Я оказалась в кабинете, где «крылья» доски держались на двух тумбах. И если их тронуть, то тумбы падали — вместе с книгами, бумагами, канцелярскими принадлежностями. Узнать об этом до урока мне не удалось. Я развернула боковые части доски — и привела в движение все вокруг: тумбы рухнули, из них высыпалось все накопленное годами содержимое. Рядом с одной из тумб стояла емкость с чистой, к счастью, водой, приготовленная для уборки кабинета. К этому моменту она больше не стояла — вода залила весь класс.
Я попросила детей помочь и призналась, что это мой первый в жизни урок. Это были старшеклассники, я была ненамного старше их. Мы вместе навели порядок, посмеялись над моей неуклюжестью, и после этого стало немножко легче. Волнение нашло выход.
Провал ли это? Думаю, нет. Провал — это когда ты сделал непоправимо больно и лишил ребенка веры в добро и справедливость.
— Но учитель по долгу службы время от времени ставит двойки. Они же ранят.
— Смотря что вложить в эту двойку и как о ней сообщить. Все имеет значение: как ты объявляешь результаты, как ты их комментируешь, как потом на них реагируешь. Я никогда не озвучиваю отметки вслух. Все получают тетради. А дальше я поясняю: что в целом у ребят получилось хорошо, потом — что не получилось, над чем стоит поработать каждому дополнительно.
И зная, что у ребенка «неудовлетворительно» и что он, безусловно, расстроится, я всегда говорю: «Это результат, который отражает твои знания по конкретной теме. Он соотносится с этой работой, а не с тобой».
И потом вместе мы из этой ситуации выходим. При необходимости привлекаем родителей, разбираемся. Всегда оказывается, что есть какая-то проблема. Предположим, ребенок учился за границей и упустил ряд тем, на которых теперь все строится. Думаем, как эти темы нагнать, подключаем разные виды заданий. Наша задача — чтобы он начал расти в отношении себя самого. И даже маленький успех обязательно будет замечен, будет поощряться.
«Без опыта, со слабыми связками»
— Одна из ваших задач, как вы считаете, воспитать в себе и в других интеллигентность, которую дают гуманитарные науки. Это как?
— Что есть интеллигентность? Если снова обратиться к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, к тем же его «Письмам», он говорит, что интеллигентность — то, что останется с человеком, когда его лишишь всех знаний, а он при этом сохранит в себе человека, который уважает культуру — свою и чужую, проявляет интерес ко всему живому, чтит прошлое, ценит настоящее, думает о будущем.
Этот подход мне близок, но еще для меня интеллигентность — это верность и терпение.
Верность избранным идеалам, которые основаны на традициях твоей семьи, твоего народа, сохранение этой верности вне зависимости от того, в каких жизненных обстоятельствах ты оказался.

Терпение — то, чему я учусь. Терпение делать то, что должно. Терпение ждать, в том числе результатов. Терпение не настаивать на том, чтобы события развивались так, как тебе хотелось бы.
Интеллигентный человек никогда не может заболеть страшной болезнью под названием равнодушие к жизни. А это неравнодушие к жизни воспитывается в том числе и прежде всего литературой и гуманитарными науками в целом. Поэтому здесь невозможно переоценить роль литературы, чтения.
— Что вас привело в школу?
— Знаете, не будет романтического ответа. Я не мечтала быть учителем. Тогда переходили со специалитета на бакалавриат, начались проблемы с поступлением. Финансовой возможности поступить в тот вуз и на тот факультет, куда хотелось бы, не было. Да и, если честно, я вообще не знала себя, не понимала, что мне по-настоящему интересно. Сначала «отпала» медицина как область знания, потом все технические специальности, и осталось не так много вариантов, среди которых был филологический факультет.
Первые четыре года после университета я работала в «Совете Шпаковского района». Бесконечно благодарна людям, ставшим моими учителями и дорогими сердцу друзьями. Некоторых из них уже нет на этой земле. Но они живут в том числе в моих поступках, в моем отношении к работе и жизни.
А спустя четыре года моя дочка пошла в первый класс. Мы переехали в Москву. И логичным виделось, что я тоже могла бы пойти в школу и быть рядом с маленькой Юлей.
Полгода я работала учителем проектной деятельности, у меня было шесть часов в неделю. А потом мне дали классное руководство в пятом классе и часы русского языка и литературы.
Наступило первое сентября, побежали первые минуты встречи с детьми: 20 мальчиков, 8 девочек. Они пришли, сели, и вот в эти первые минуты все сложилось!
Учительская искра загорелась и, к счастью, пока не погасла.
Потом стало очень страшно. Особенно первое родительское собрание далось тяжело, потому что практически все родители были в два раза старше меня. В начальной школе был педагог опытный, сильный, уважаемый. Все дети ее беспрекословно слушались, в классе была идеальная тишина. А у меня — слабые голосовые связки.
После первого родительского собрания одна из самых внимательных, чутких и заботливых мам пришла домой и запаниковала: «Как же так! Нам дали девочку. Без опыта. Маленькую такую. Она еще сообщила, что повышать голос не в ее педагогических правилах. И вообще что у нее слабые голосовые связки! Что она будет делать с нашими детьми?»
Родители потом рассказали, что всю первую неделю приходили и стояли за дверью, слушали, боялись, что ничего не получится, и были готовы прийти на помощь. Но оказалось, что в классе тишина. Дети не убегали, оставались у моего стола поговорить не только об уроках. Творческие проекты с первых дней. Все это успокоило, и потихоньку мы вместе поверили, что все получится. И получилось!
— Сегодня вы не только преподаете, но и заведуете кафедрой словесности. Как все совмещаете?
— Для меня кафедра — тоже целый класс, нас уже 12 учителей. Каждый со своими взглядами, убеждениями, плюсами, минусами, радостями и огорчениями. Учителя вообще, а филологи прежде всего — это люди творческие, ответственные, самокритичные, они требовательно относятся прежде всего к себе и нуждаются в поддержке не меньше, чем ученики. Поэтому ровно те подходы, которые я применяю к ученикам, стараюсь применять и в работе с коллегами, у которых сама постоянно учусь и благодаря которым могу расти, в том числе профессионально.

Ты отвечаешь за то, чтобы учителя были в ресурсном состоянии, чтобы знали и чувствовали свою ценность. При этом, если совершаются какие-то ошибки, важно показать точки роста. Исправить. Доработать. И вырасти — вместе.
И плюсом к этому мероприятия, общегимназические задачи, кафедральные проекты. Но 12 человек одновременно не могут постоянно включаться во все задачи. Поэтому важно увидеть, что кому нравится, что у кого откликается.
— Вы несете работу домой? Я имею в виду не только тетради, но и истории ребят, коллег, что происходили в течение дня.
— Конечно! У меня взрослая дочь, ей 22 года, сейчас она заканчивает пятый курс медицинского университета. Мы встречаемся дома, с радостью делясь своими историями: она — про медицину и здравоохранение, а я — про учительство и образование. И не только.
Живые истории
— Многое из того, что проходят в школе, дети забывают. В чем тогда смысл профессии? Что остается у самого учителя?
— Не так давно я закончила читать книгу Натальи Бехтеревой. Вот размышления о том, что остается в памяти: «Мы бьемся с жизнью, думаем: вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем должность — то-то будем довольны! А запомнится навеки другое — как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс “Осенний сон”, а ты — кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру».
А что останется у меня? Что я буду вспоминать из опыта учительства? Вот знаете, это не баллы на ЕГЭ, совершенно точно.
Не правила по русскому языку или выполненные на «отлично» задания по литературе. Нет, это необыкновенные поступки детей, живые истории.
Один мой десятиклассник сломал палец на руке, при этом нужно было сдать работу по фразеологизмам. Он прислал мне эту работу на электронную почту и сопроводил словами:
Я к вам пишу. Чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Сломал я палец. Очень больно.
Но фразеологизмы нужно сдать.
И он их сдает. И это уже результат вашего с ним пути, опыт понимания друг друга, терпения, твоего отношения к ребенку и вашего совместного — к труду. И это не забудется никогда.
Буду вспоминать заговорщический взгляд девочек девятого класса, которые говорят, что им очень-очень нужно встретиться в тишине в кабинете литературы. Мы договариваемся, открывается дверь, они заходят с метровым художественным полотном, на котором удивительно талантливо и пронзительно изображено нечто.
«Вы знаете, эту картину написала А. после того, как на одном из уроков литературы в начале года мы вместе с вами изучали стихотворение. Вот вам задачка. Про что это?» И тут колоссальная ответственность! Ошибиться нельзя. Силой внутренней молитвы, потому что мне очень страшно их подвести, попадаю в цель и не ошибаюсь. И это мгновение я буду помнить всегда. Это Александр Сергеевич Пушкин, стихотворение «Пророк». На картине был изображен архангел, проводящий поэта путем страданий, жертв, преображения, чтобы нести божественный глагол.
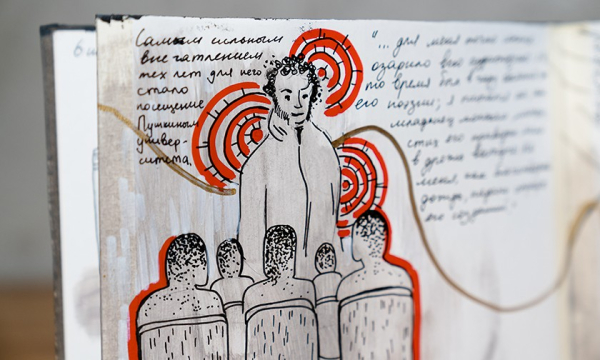
Вспоминается, когда тебе приходят письма в другой город. Кстати, процитирую строчки этой чудесной девочки, она выросла в талантливого поэта:
Боже, люби безумцев, плывущих не по течению,
Стоящих дорого береги, но храни бесценных.
Зимой согрей художника, ученого и поэта.
Дай наставникам добрую старость и дачу в лете.
И теперь я абсолютно спокойна за свою будущность, потому что знаю, что есть благословение от детей, в том числе запечатленное в этих строчках. И ровно это вспоминается. И много-много еще историй, связанных и с детьми, и с родителями, и с моими коллегами. Поэтому я с большой благодарностью отношусь к каждому человеку, встреченному на своем пути, и к каждому часу, который мы провели вместе.
Фото предоставлены гимназией имени Е.М. Примакова
Поскольку вы здесь… У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей. Сейчас ваша помощь нужна как никогда. ПОМОЧЬ





